![]()
- Академия •
- Издательство •
- Конференции •
- Выставки •
- Ученые звания •
- Награды •
- Контакты
РУС | ENG
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Термин «психосоматика» появился в 1818 году. Его предложил немецкий врач R. Heinroth .
В 1918 г. B.S. Openheimer и M.A. Rotshild ввели понятие нейроциркуляторной астении, при которой симптомы невроза сопровождались повышенной утомляемостью.
Da Costa (1871) описал «возбудимое» сердце солдата (синдром Да Коста) и синдром раздраженного кишечника. В 30-х годах ХХ в. появилось понятие «органный невроз». Органные неврозы G. Bergmana рассматривались Г.И. Маркеловым (1948) как «вегетозы», В.Г. Мясищевым (1960) как системные неврозы и как соматоформные расстройства в нынешних классификациях [145].
С начала прошлого века вопросы течения и развития любого заболевания начали рассматриваться с позиций целостного организма. Факт отражения каждого психического акта в телесных ощущениях (и наоборот), как в норме, так и при патологии, вроде бы никем не оспаривался. Но и в начале ХХI столетия единство органного и душевного не стало доминирующим ни в сознании клиницистов, ни исследователей.
| В общем виде под термином «психосоматическое расстройство» большинство авторов определяют нарушение функции внутренних органов и систем, возникновение и развитие которых в наибольшей степени связано с нервно-психическим фактором, специфическими особенностями эмоционального реагирования личности (Петровский А.В., Ярошевский М.Г.,1998)*. |
Патогенез формирования психосоматического расстройства/ заболевания достаточно сложен ввиду огромного количества его составляющих, удельный вес каждого из которых лишь предположителен, а взаимосвязи не установлены. В обобщенном виде – это наследственные соматические и психические нарушения и предрасположенность к ним; психическое и физическое состояние личности во время психотравмирующего события – особенности самого события и фона, на котором оно происходит.
Ключевая роль в становлении и интерпретации психосоматики, конечно, принадлежит психоанализу. Теория «символического языка органов» объясняет возникновение тех или иных симптомов проявлением так называемой «тени» – мыслей, стремлений, фантазий, вытесненных в бессознательное [33]. Так, сексуальное голодание проявляется в нарушении функции желудка; запоры – тенденцией к брезгливости, накоплению денег; респираторные заболевания – стремлением вернуться в лоно матери.
Ключевое понятие психоанализа – конверсия – означает вытеснение влияния на орган (расстройство его функции). Если эта тенденция обратима, то речь идет о неврозе (истерии), если нет – соматическом заболевании.
Ф. Данбар (1938, 1943) сформулирована концепция «констелляции личностных черт», которая породила многочисленные разноуровневые и разноплановые исследования по выявлению специфических личностных особенностей психосоматических больных. Ею описаны «коронарный личностный тип», «язвенный», «гипертонический», «аллергический» и др. Многие результаты проведенных в этом направлении работ уже общепризнанны.
Труд американского психоаналитика Ф. Александера «Психосоматическая медицина», вышедшая в 1950 г., обобщил опыт бурного развития психосоматики в первой половине ХХ века. Автор рассматривает концепцию появления симптома как нормального физиологического сопровождения хронизированного эмоционального состояния. Любая подавленная эмоциональная реакция имеет свой соматический эквивалент. Глубина вытесненного специфического эмоционального конфликта определяет форму психогенного заболевания: истерическая конверсия, вегетативный невроз, психосоматическое заболевание. Для каждого психосоматического заболевания, по мнению Ф. Александера, характерен свой интрапсихический конфликт.
Бихевиоральное (поведенческое) направление интерпретирует психосоматическое заболевание как результат неправильного научения и разнообразных форм неправильного поведения.
Теория кортико-висцеральных взаимосвязей, отталкиваясь от биологической платформы, выдвинула гипотезу о кортико-висцеральном происхождении психосоматических заболеваний, когда в отличие от вышеперечисленных концепций основная роль отводится не вытесненному, подавленному, замещенному подсознательному, а первичным нарушениям корковых механизмов управления висцеральными органами за счет перенапряжения возбуждения и торможения в коре мозга.
Исследования школы И.П. Павлова (К.М. Быков, И.Т. Курцин, 1960) продолжают сохранять свою актуальность в формировании современных представлений психосоматической медицины.
* * *
Клиника неврастении и истерического невроза связана с несуществующей болезнью. Если при первом это психозащитная депрессия и астения (усталость, слабость), когда человек, свято веря сказанному говорит, что «устал от жизни», то во втором случае человек подсознательно воссоздает модель любой болезни.
| Неврастеник ни на что не претендует, его притязания низки, он капитулировал. При истерическом неврозе «болезнь» используется как раз для жизненной борьбы [22]. |
У невротика с соматоформными расстройствами соматовегетативные симптомы явны, тогда как психопатологические замаскированы. При этом морфологические изменения тканей не обнаруживаются, что и отличает их от психосоматических заболеваний.
В.В. Марилов (1993) предлагает концепцию единого процесса – психосоматоза, на одном полюсе которого находится психогенно обусловленная функциональная патология, а на другом – органическая [98]. Он выделяет 4 этапа психосоматоза: этап психической депрессии, этап психосоматических реакций, этап психосоматических циклов, этап психопатизации.
Большим событием для клиницистов стало появление в 1986 г. монографии В.Д. Тополянского и М.В. Струковской «Психосоматические расстройства» [128], которая сразу стала медицинским бестселлером.
Книга написана не общепринятым научным языком. Эмоциональный накал, тщательность подбора иллюстраций, прекрасный язык и стиль изложения материала, убежденность авторов выдвинули ее в ряд выдающихся. Книга акцентировала проблему, как бы переориентировала огромный фактический материал, накопленный клиницистами практически всех специальностей, в толковании причин заболеваний в сторону психического начала.
Известное высказывание Е.К. Краснушкина (1934) о том, что внутренняя речь эмоций – это функция органов, как в норме, так и в патологии было развито и великолепно проиллюстрировано.
По Изарду [45], на нейрофизиологическом уровне эмоция определяется по электрохимической активности нервной системы (коры, гипоталамуса, базальных ганглиев, лимбической системы, лицевого и тройничных нервов). На нервно-мышечном уровне эмоция – это, прежде всего, мимическая деятельность. На феноменологическом уровне эмоция проявляется либо как сильно мотивированное переживание, либо как переживание, которое имеет непосредственную значимость для субъекта.
Когда нейрохимические процессы через врожденные программы вызывают комплексные мимические и соматические проявления, а с помощью обратной связи они становятся осознанными, появляется отдельная фундаментальная эмоция. В роли посредника между центральной нервной системой (читай: эмоцией) и внутренними органами выступает вегетативная нервная система.
| Особая «ранимость» вегетативной нервной системы, практически не контролируемой волей (без специальной и весьма длительной подготовки)? и крайне неустойчивой в своем равновесии, проявляется не только при достаточной интенсивности аффекта; висцеро-вегетативные реакции выступают в ходе адаптации и в ответ на слабые эмоциональные стимулы, соответствующие даже чрезвычайно тонким интеллектуальным процессам. Вегетативная нервная система обеспечивает всеобщность и слитность психического с соматическим. Этот биологический факт определяет в конечном счете всю жизнедеятельность человеческого организма как в норме, так и в патологии [128]. |
Вариантом акцентации именно на участие вегетативной нервной системы, являющейся лишь одной частью триединого комплекса, стало появление достаточно популярной «вегето-сосудистой дистонии». При появлении у пациента жалоб не только на головную боль, разбитость, лабильные колебания артериального давления, но и раздражительности, тревоги диагноз звучит как «психо-вегетативный синдром».
Академиком П.К. Анохиным в середине прошлого (ХХ) века была разработана биологическая теория функциональных систем как замкнутого контура автоматической регуляции с постоянной сигнализацией о результатах действия для получения определенного приспособительного эффекта, необходимого в данной момент в интересах целостного организма. Любая качественно очерченная эмоция рассматривается в свете этой теории как целостная функциональная система со всеми присущими ей закономерностями. Включение эмоций в содержание функциональной системы определяется их биологической ролью, филогенетически направленной, прежде всего, на удовлетворение потребности в сохранении телесного и психического постоянства «Я». Эмоции выступают первым звеном в общей цепи приспособительных реакций, которые, сменяя друг друга, охватывают весь организм почти мгновенно, без первичной оценочной составляющей, и позволяют отвечать на любые воздействия окружающей среды еще до установления их конкретных параметров. Таким образом, эмоции выступают как абсолютный и мгновенный сигнал полезности и вредности любого воздействия, что определяет их исключительное значение по отношению ко всем другим механизмам адаптации.
| Эмоция висцерального происхождения возникает как следствие «встречи» исходного интегрированного возбуждения, обусловившего определенный периферический эффект, и сложного потока афферентной импульсации от органов действия. Малейшее рассогласование этой возвратной импульсации с данными так называемого акцептора действия немедленно вызывает чувство неудовлетворенности и беспокойства, какого-то соматического неблагополучия в организме. Сигнал, или затянувшаяся эмоция, вовлекает в страдание всю вегето-эндокринную систему. Усиленное функционирование не только симпато-адреналовой, но и всей нейроэндокринной системы сопровождается все большей дезинтеграцией физиологических механизмов, лежащих в основе координированной приспособительной деятельности целостного организма. Крайние степени дезинтеграции нейрофизиологических процессов ставят организм под угрозу острого психосоматического поражения какого-либо органа и даже скоропостижной смерти.
По П.К. Анохину, одновременно происходят обработка, взаимодействие и образование акцептора действия четырех составляющих: доминирующей в настоящий момент мотивации, обстановочной афферентации, пусковой афферентации и памяти жизненного опыта индивида. Всякое изменение порядка и последовательности или даже простая задержка одного из этих интегративных процессов приводит к дезорганизации данной функциональной системы и переходу эмоции удовольствия в эмоцию отрицательного знака. В роли пускового фактора могут быть и внушенная идея или страх болезни, и необычные стимулы от внутренних органов, и всевозможные поводы, сопряженные так или иначе с прежним жизненным опытом личности. Физиологическими коррелятами негативных эмоций становятся повышение системного артериального давления и/или учащение дыхания, изменение тонуса мочевого пузыря или секреторной и моторной активности пищеварительного тракта, напряжение скелетной мускулатуры и увеличение свертываемости крови [128]. |
Если стресс не протекает по естественному пути аффективной разрядки, – крик, бегство, драка и пр., при невозможности своего удовлетворения, формируется постоянное эмоциональное возбуждение отрицательного знака – психосоматическая депрессия. Достаточная сложность разделения одного от другого (стрессорных и эмоциональных проявлений), конечно, со временем разрешится. Пока же мы имеем факты, ждущие своего объяснения. Например, обезьяны, которых систематически пугали во время еды, получали язву желудка, а других – после сильной физической нагрузки заставляли сидеть неподвижно, что приводило к развитию гипертонии. Что это: подверженность стрессу тех функциональных систем, которые работали с наибольшим напряжением, до упора, или это разные стрессы?
Чем сильнее и продолжительнее воздействие отрицательной эмоции, тем более значительны и стойки висцеро-вегетативные нарушения, тем больше оснований для психосоматических расстройств (болезней) и, соответственно, ипохондрического развития личности.
Долговременная память – это всегда эмоциональная память, стойко запечатлевшая следы однократного психофизиологического состояния, возникшего вследствие психогенного или соматогенного воздействия и бывшего по тем или иным причинам экстремальным. И фактом является «сверхбыстрое извлечение из памяти той же самой нейрохимической трассы» [128] в ответ на стимул, явно не соответствующий тяжести стрессовой ситуации.
Уникальность каждого человека определяет бесконечную вариабельность как психического, так и соматического проявления возникающих расстройств.
| Ахиллесову пяту каждого человека создает не только и даже не столько изначальная, конституциональная готовность какого-либо органа к избирательному поражению или возможная недостаточность его вследствие перенесенного в прошлом заболевания либо повреждения, сколько известная настороженность на него центральной нервной системы. Центром тяжести психосоматического страдания оказывается всегда орган, наиболее уязвимый и важный в представлении индивида для жизнедеятельности индивида и его жизнедеятельности вообще. Своеобразным выражением принципиально новых качеств, которыми обогащается эмоция в процессе накопления индивидуального опыта, становится функциональная патология по типу условного рефлекса. Формируется все более отчетливая тенденция по все более стереотипному реагированию на любые внешние и внутренние стимулы. Приступы кардиальной гипервентиляции или гемикрании стереотипно воспроизводятся сначала в определенной ситуации, потом – под влиянием какого-либо раздражителя, связанного с этой ситуацией хотя бы косвенно или неосознанно, затем – при малейшем волнении и расстройстве и, наконец, при любом неприятном или неблагоприятном для организма воздействии вообще [128]. |
В то же время, самоуглубленные, мнительные, тревожные и эмоционально неустойчивые интраверты реже страдают некоторыми видами рака. У тех, кто по складу личности наиболее подвержен сердечно-сосудистым расстройствам, рак встречается реже, чем у уравновешенных людей. Периодические острые стрессы, часто переживаемые экстравертами, способствуют развитию карциномы. Как будто иммунная система при хроническом стрессе приобретает навыки противораковой борьбы и не успевает отреагировать при остром стрессе.
Н.П. Бехтеревой [13] была сформулирована теория устойчивых патологических состояний, исходя из которой для преодоления неопределенности / нестабильности (одного из самых стрессорных агентов) формируется и закрепляется новая матрица памяти, ограничивающая резкие колебания возможных реакций ответа с формированием своеобразного нового патологического гомеостаза.
Одним из путей прогрессирования данного, казалось бы, устойчивого, созданного по законам адаптации состояния, становится переход в фазу дестабилизации со значительным нарушением не только функции, но уже и структуры органа.
Рассмотренная здесь схема развития психосоматических расстройств включает в себя преходящие состояния, устойчивые психопатологические проявления соматизированной депрессии и их органные – системные эквиваленты, и, наконец, конкретные болезни с известной симптоматикой. Преходящие депрессивные состояния, наверное, нужно считать вариантом нормы в развитии жизни любого человека. Это – состояния, которые он смог преодолеть и выйти победителем. Другое дело, каковы количество и качество «депрессива». Р. Киплинг, подвергнувшийся в детстве жестокому прессингу воспитательницы, стал слепнуть. Изменение обстановки и последующая благоприятная жизнь сделали из него Киплинга. Но зрение восстановить полностью он не смог.
Устойчивая соматогенная депрессия чрезвычайно вариабельна по яркости и акцентации индивида на психических проявлениях либо на болезни органов. Авторы [128] отмечают все большую соматизацию депрессий (депрессий без чувства подавленности и тоски), отмечаемую во всех цивилизованных странах.
Мой первый учитель в хирургии являл собой ярчайшую иллюстрацию парафраза известной поговорки: «Неправда, что в здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух селится там, где захочет». Он прекрасно себя чувствовал, смешивая алкоголь с таблетками, страдая жестокой гипертонией, вплоть до инсульта.
Кардинальные вопросы психосоматики сегодняшнего дня мало отличимы от общих вопросов этиопатогенеза и включают в себя поиск пускового механизма патологического процесса, меру индивидуальной реактивности в виде выраженной эмоциональной реакции и комплекса специфических вегето-висцеральных сдвигов или полного отсутствия таковых и специфичности проявления заболевания.
По T.H. Holmes, R.H. Rahe (1967), в течение года человек переживает около 150 заметных жизненных изменений. При возрастании их числа в 2 раза развитие психосоматического заболевания увеличивается до 80% [98].
Выделяют следующие психосоматические заболевания: гипертоническая болезнь, синдром артериальной гипотензии, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, бронхиальная астма, тиреотоксикоз, сахарный диабет, неспецифический хронический полиартрит, заболевания кожи, хроническая боль. В список не включены заболевания, являющиеся, по мнению древних, болезнями «омраченности», неправильного поведения: агрессия, переедание, алкоголизм, курение и пр.
В то же время, трудно не согласиться с мнением А.Л. Гройсмана [29] о значительном расширении представленного перечня и включить в него синдром раздраженной толстой кишки, рефлюксы – прямой путь к раку желудка и пищевода, дискинезии желчного пузыря, выливающиеся в наиболее частую на сегодняшний день хирургическую патологию – желчнокаменную болезнь со всеми ее осложнениями; и бич современной хирургии – панкреатит/панкреонекроз. Среди 120 причин возникновения последнего в настоящее время наиболее значима одна, связанная с кровоснабжением поджелудочной железы. Классические опыты по созданию желчной гипертензии в панкреатических путях, возникающие в естественных условиях при обструкции их камнем, не давали стабильного развития панкреонекроза, тогда как перевязка какой-либо панкреатической вены обеспечивала гарантированное его развитие [4]. Дистонический механизм начала заболевания, спровоцированный любой из 120 названных причин, на мой взгляд, наиболее вероятен.
В кардиологии и ангиологии – это кардиалгии функциональной природы, аритмии, вегетодистонии и нейроциркуляторные расстройства.
В эндокринологии – гипотиреоидная реакция, гормональные дисфункции.
В настоящее время выделяют 10 заболеваний, как основных причин преждевременной смерти в развитых странах: болезни сердца и сосудов (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда), инсульты (гипертоническая болезнь, атеросклероз, болезни сердца), атеросклероз (сахарный диабет, гипертоническая болезнь), бронхиальная астма, сахарный диабет, нефриты и нефрозы, грипп и пневмония, рак, цирроз печени, несчастные случаи. И если три последних группы заболеваний можно включить в психосоматику с оговоркой (также как господствующий сейчас в хирургии панкреонекроз), то генез 7 остальных вполне укладывается в психосоматическую концепцию.
С известной долей допуска можно принять психосоматическую концепцию как универсальную. В.И. Гарбузов [22], соединяя основы китайской и тибетской медицины о взаимоотношениях и взаимовлиянии, на наш взгляд, не связанных между собой органов и их болезней с современными взглядами на «связку» психовегетативный – психоастенический – соматодепрессивный синдром – психосоматическая болезнь, считает последние «бичом ХХ века».
Язык интерпретаций заболеваний на сегодняшний день выдвинул иммунологию в качестве всеобъясняющего понятия. Сама иммунология до настоящего времени не имеет прочной теоретической базы, но такое словосочетание, как сниженный иммунитет, – понятно абсолютно всем*.
Данные, полученные и клиницистами, и экспериментаторами по взаимосвязи социо-психических факторов с иммунными процессами богаты и однозначны. Стрессорные события – быстрые или длительно протекающие – непосредственно определяют частоту заболевания раком и инфекциями, аллергическими и аутоиммунными проявлениями. К последним относят болезнь Грейвса и Хашимото, ревматоидные артриты, болезнь Крона, системную красную волчанку, псориаз, нейродермиты, миастению. Проще было бы сказать, что трудно выявить заболевание, тем или иным образом не связанное с психическими проявлениями, особенностями личностного реагирования.
Ясность и понятность психосоматики абсолютно не означает практическое приятие ее в клинике. Ни один великий врач не мог отойти от представления, что, по существу, вся медицина является психосоматической. Но в нынешней «доказательной медицине», ориентированной на фармакотерапию, о психосоматической компоненте болезни зачастую вспоминают лишь при ее пограничных проявлениях. К тому же психо- также тесно переплетено с социо-, как и с соматикой. Отсюда неизбежный вывод о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но, быть может, это не стена, а выход?!
Возьмем самый простой вариант: давление, язва, диабет, астма, ишемия миокарда и пр. уже дают о себе знать. Терапия – строгая или от случая к случаю – уже проводится. Возможно ли выздоровление? И здесь я не скажу ничего более банального, чем: «Нужно изменить себя!». Фраза банальная, но истина вечная.
Ишемия миокарда, даже на фоне стенокардитических приступов, может быть компенсирована длительными динамическими физическими нагрузками (бег трусцой, плавание, даже обычные приседания, длительная быстрая ходьба), естественно при медленном постепенном возрастании нагрузки и без перерывов на плохую погоду, настроение и пр.
А как же инфаркт или инсульт? Да, могут быть, видел собственными глазами и обязан направить собирающегося изменить свою жизнь к врачу. А еще лучше, например, сделать предварительно коронарографию.
Но я уже описывал взаимоотношения врач-пациент в рамках предписаний и их реальный результат. Выбирать Вам. Лучшего же средства от инфаркта, чем джоггинг (бег трусцой) человечество еще не придумало.
Когда-то меня поразили воспоминания марафонца, который пришел к бегу через тяжелую стенокардитическую инвалидность в 60-е годы. Бегать он просто не мог. Рекомендация врача – ложку водки (расширение сосудов) – пробежка: терять было нечего. И так пьяный, шатаясь, от дерева к дереву, человек убегал от смерти.
Есть факты и другого рода. Несколько лет я бегал в лесу по терренкурам кардиологического реабилитационного санатория. Бегал в полном одиночестве…
Видел и людей в коме после первой пробежки…
Гипертония. Вот уж где поле непаханное для фармакотерапии. Как выражается мой знакомый: «Таблетки пью горстями!» Болезнь стрессовая, но многофакторная. Ведение спокойного образа жизни – не факт отсутствия высокого давления. Моя бабушка умерла в 86 лет. Примерно 40 лет она жила с давлением 180 и 100 мм рт. ст., принимая резерпин. Началом болезни считала стресс, когда увидела меня 2-х летного на створе колодца 36-метровой глубины. Она никогда не работала (на производстве), жила в сельской местности, не испытывая материальных и моральных проблем.
Вот передо мной две [70,100] из многочисленных публикаций на тему лечения гипертонической болезни. Причину заболевания авторская группа под научным руководством акад. Н. Агаджаняна видит в снижении содержания в артериальной крови углекислого газа (гипокапния), вследствии стрессов, что приводит к спазму огромного капиллярного кровеносного русла со стойким подъемом артериального давления.
Публикаций подобного рода на правах рекламы в периодической печати масса: циганап, янтарь, препараты черники и прочая, прочая… Дело в другом. Пранаяма – древнейшая индийская система управления праной (энергией), это практическое руководство по управлению дыханием, в которой «расширению» и углублению дыхания (бхастрика) отводится небольшое место. Основа пранаямы – упражнение по задержке дыхания. Вдохнул – задержал дыхание – выдохнул – задержал. Просто до неприятия. Противопоказаний никаких, особых условий тоже. Попробуйте – и Вы быстро войдете во вкус, если хватит терпения месяца 2 – 3 заниматься пранаямой по 10 мин. Два раза в день.
Диабет – болезнь гиподинамии и неправильного, вернее, обильного питания. Развитие диабета в детском возрасте и молодости, имеющее, скорее всего, антигенную природу, не превалирует в общей структуре больных с диабетом.
Так вот, Ф. Шаляпину, в эпоху отсутствия заместительной терапии, рекомендовали колоть дрова перед едой. А о том, что вкусная обильная пища под хорошее вино была важна в жизни, пишет сам великий певец. Сейчас рекомендации по лечению диабета тотально подчинены диете – хорошо. Но физическая нагрузка – бег, плавание, даже приседание – фактор не менее значимый, помогающий не только излечить диабет 2-го типа, но «соскочить» с инсулина.
Бронхиальная астма. Многочисленные теории происхождения бронхиальной астмы от воспалительно-антигенной до перераздражения трахеи и бронхов «жестким» воздухом при нарушениях аэродинамики носовых ходов, каждая имеет под собой основание. Но вот практическая реализация в лечении…
Гиперкапническая терапия (метод Бутейко-Стрельниковой, Фролова, Малахова), снимающая бронхоспазм реальна в своих результатах по лечению заболевания. Принимать антибиотики и бронхолитики проще… Один из моих знакомых, владелец сети ресторанов, услышав от меня о дыхательных упражнениях по поводу его, достаточно легко протекающей астмы, прекратил у меня консультации. Лечится в пульмонологическом центре. Два раза в год проходит курсы фармакотерапии. Странно? Да нет, реально и обыденно, до зубной боли.
Интересный факт: у многих выдающихся спортсменов выявляют бронхиальную астму. Одно из объяснений – такой диагноз позволяет принимать стимуляторы. Что ж, вполне возможно. Но, по-моему, это естественная реакция на многочасовую гипокапнию, как у чемпионки мира по марафону англичанки Картфилд. Что может быть неестественнее, чем ежедневные 25 км пробежки?
Повторяться об ожирении и атеросклерозе не буду.

19-23 июня 2024 года 30-я Пекинская международная книжная выставка
 С 19 по 23 июня 2024 г. Академия Естествознания на правах официального участника приняла участие в 30-ой Пекинской международной книжной выставке Beijing International Book Fair-2024, которая прошла в Китайском национальном конференц-центре China National Convention Center в Пекине (Chaoyang District, Beijing, China).
С 19 по 23 июня 2024 г. Академия Естествознания на правах официального участника приняла участие в 30-ой Пекинской международной книжной выставке Beijing International Book Fair-2024, которая прошла в Китайском национальном конференц-центре China National Convention Center в Пекине (Chaoyang District, Beijing, China).
 11 июня Академией естествознания в рамках Весенней Сессии РАЕ-2024 была проведена научно-практическая онлайн конференция для педагогов и специалистов средних, средних специальных и высших учебных заведений «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» для педагогов и других специалистов средних, средних специальных и высших учебных заведений.
11 июня Академией естествознания в рамках Весенней Сессии РАЕ-2024 была проведена научно-практическая онлайн конференция для педагогов и специалистов средних, средних специальных и высших учебных заведений «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» для педагогов и других специалистов средних, средних специальных и высших учебных заведений.
 С 14 по 17 марта 2024 г. Академия Естествознания приняла участие в XXXI МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ «ММКВЯ-2024», которая прошла в Административном выставочном комплексе БелЭкспо.
С 14 по 17 марта 2024 г. Академия Естествознания приняла участие в XXXI МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ «ММКВЯ-2024», которая прошла в Административном выставочном комплексе БелЭкспо.
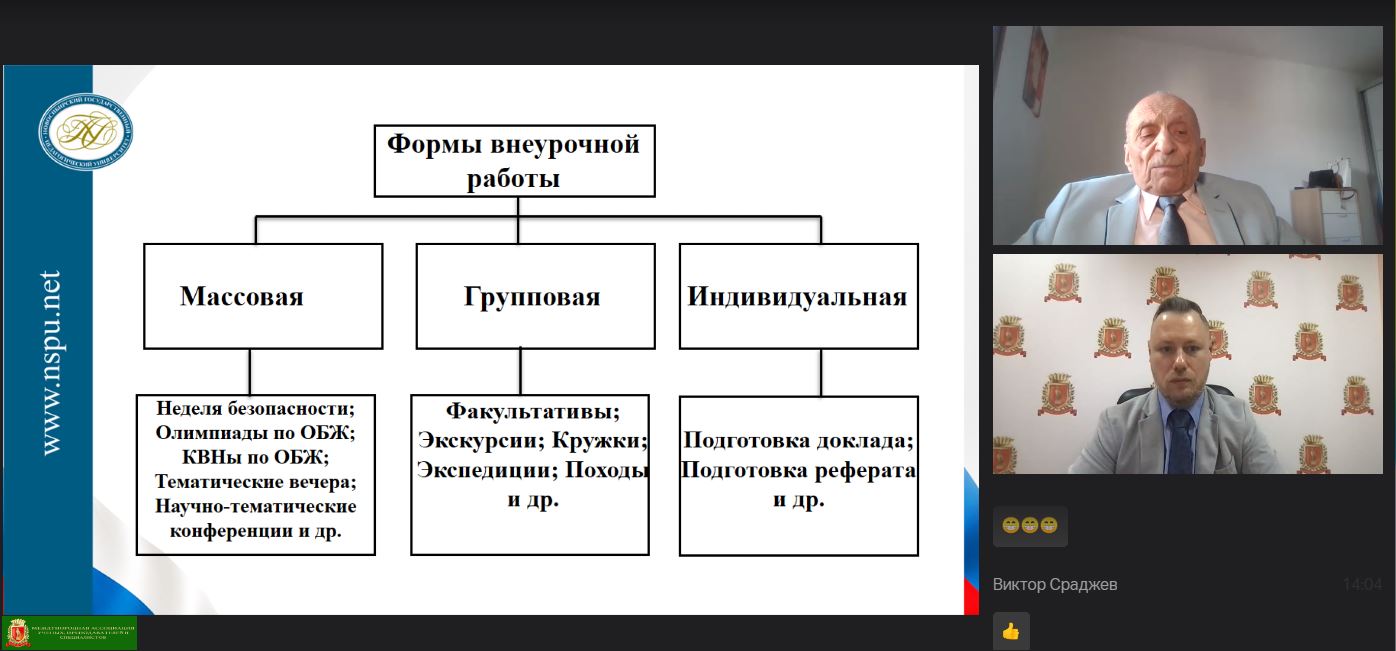 30 января Академией естествознания в рамках дистанционных педагогических проектов была проведена научно-практическая конференция "ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" для педагогов средних, средних специальных и высших учебных заведений.
30 января Академией естествознания в рамках дистанционных педагогических проектов была проведена научно-практическая конференция "ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" для педагогов средних, средних специальных и высших учебных заведений.
18-22 октября 2023 года Франкфуртская книжная выставка
 Российская Академия Естествознания приняла участие в прошедшей 18-22 октября 2023 года 75-ой Франкфуртской книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2023
Российская Академия Естествознания приняла участие в прошедшей 18-22 октября 2023 года 75-ой Франкфуртской книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2023
© 2005–2020 Российская Академия Естествознания
Телефоны:
+7 499 709-8104, +7 8412 30-41-08, +7 499 704-1341, +7 8452 477-677, +7 968 703-84-33
+7 499 705-72-30 - редакция журналов Издательства
Тел/Факс: +7 8452 477-677
E-mail: stukova@rae.ru
Адрес для корреспонденции: 101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания.
Служба технической поддержки - support@rae.ru
